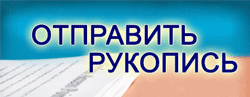Консервативное лечение детей с травматическими разрывами селезенки: результаты 22-летнего опыта
- Авторы: Подкаменев В.В.1, Пикало И.А.1, Новожилов В.А.1,2, Карабинская О.А.1, Михайлов Н.И.2, Петров Е.М.2, Латыпов В.Х.2, Мороз С.В.2, Халтанова Д.Ю.2
-
Учреждения:
- Иркутский государственный медицинский университет
- Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
- Выпуск: Том 14, № 4 (2024)
- Страницы: 479-490
- Раздел: Оригинальные исследования
- Дата подачи: 27.07.2024
- Дата принятия к публикации: 06.11.2024
- Дата публикации: 19.10.2024
- URL: https://rps-journal.ru/jour/article/view/1830
- DOI: https://doi.org/10.17816/psaic1830
- ID: 1830
Цитировать
Аннотация
Актуальность. Консервативные методы, разработанные и апробированные на протяжении нескольких десятилетий, позволяют избежать спленэктомии, последствием которой становится синдром постспленэктомического гипоспленизма, сопровождающийся иммунодефицитом и гематологическими нарушениями. В данной статье мы рассматриваем 22-летний опыт консервативного лечения травматических разрывов селезенки, подчеркивая важность сохранения органа и минимизации хирургического вмешательства.
Цель — обобщить 22-летний опыт лечения детей с травматическими разрывами селезенки.
Материалы и методы. Проведено обсервационное одноцентровое проспективное исследование в период с марта 2002 по март 2024 г. на базе Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска. Анализировали истории болезни 95 детей с травматическим разрывом селезенки. Консервативное лечение получили 83 (87,4 %) пациента, хирургическое — 12 (12,6 %). Возраст пострадавших детей составил 12 [8; 14] лет, мальчиков наблюдалось в 3,3 раза больше (73 против 22). Для анализа пациенты были разделены на две группы: группа сравнения (n = 62; 65,3 %) — ранний период лечения (март 2002 – август 2012 г.); основная группа (n = 33; 34,7 %) — поздний период лечения (сентябрь 2012 – март 2024 г.). Осложнения, связанные с повреждением селезенки изучены в катамнезе у всех детей. Комплексное обследование пациентов после выписки продолжалось на протяжении от 6 мес. до 15 лет.
Результаты. Из 95 пациентов у 2 (2,1 %) выполнена спленорафия, у 3 (3,1 %) — лапароскопия с ревизией селезенки, и у 7 (7,4 %) — спленэктомия. При оперативном лечении детям требовалась длительная комбинированная антибактериальная терапия в течение 13 [10; 16] дней. При удалении селезенки после выписки из стационара пациентам назначалась вакцинопрофилактика. При дискриминантном анализе выявлены совокупные факторы, влияющие на выбор в пользу оперативного лечения детей с разрывами селезенки. Совокупные факторы: низкое систолическое артериальное давление — 95 (70; 118) мм рт. ст., p = 0,002; тахикардия — частота сердечных сокращений 105 [100; 120] в минуту, p = 0,019; повышенный шоковый индекс Альговера — 1,1 [0,9; 1,57], p = 0,001; кровопотеря при поступлении — 13 % [6,3; 19] ОЦК, p = 0,001; максимальная степень кровопотери — 2 [1; 3], p = 0,001. При сравнении групп по периоду лечения выявлено статистически значимое различие по количеству койко-дней в отделении хирургии: в группе сравнения срок госпитализации составил 12 [8; 14] дней, в основной группе — 7 (7; 9), p = 0,001. Пациенты не отличались по показателям кровопотери и гемодинамики. Однако за последнее время количество операций при разрыве селезенки снизилось в 2,6 раза, с 16,1 до 6,1 %. При анализе непосредственных исходов после спленэктомии отмечено, что у 71,4 % (n = 5) детей выявлен тромбоцитоз на 3–6-е сутки после операции. После удаления селезенки в течение 2 нед. у всех детей отмечалось повышенное СОЭ 25 [23; 39] мм/ч. При исследовании отдаленных результатов у 57,1 % пациентов отмечались частые инфекционные заболевания. При консервативном лечении симптомов гипоспленизма не выявлено.
Заключение. Консервативное лечение детей с травматическими разрывами селезенки безопасно и клинически эффективно. Неоперативное ведение возможно применять в 93,9 % случаев. В свете полученных результатов, мы рекомендуем активное использование консервативных методов лечения травматических разрывов селезенки у детей как предпочтительный вариант, с акцентом на индивидуальный подход мониторирования состояния пациентов.
Ключевые слова
Полный текст
Актуальность
Последствием аспленизации является синдром постспленэктомического гипоспленизма, который сопровождается иммунодефицитом и гематологическими нарушениями. Наиболее опасное осложнение после спленэктомии в отдаленном периоде — развитие молниеносного сепсиса, с летальностью 50–70 % [1, 2]. Первичная профилактика постспленэктомических осложнений — это органосохраняющее лечение повреждений селезенки методом неоперативного ведения [3, 4]. Консервативный метод лечения детей с разрывами селезенки в нашей клинике был принят в марте 2002 г. после 5-летнего опыта лечебно-диагностической лапароскопии. Период активной лапароскопии при травме селезенки у детей показал, что более чем в 70 % случаев она позволяет отказаться от лапаротомии из-за отсутствия продолжающегося кровотечения [5]. Факт самостоятельной остановки кровотечения из селезенки у детей стал побудительным мотивом к пересмотру тактики лечения в пользу консервативных органосберегающих методик. В нашем исследовании мы подробно анализируем клинические случаи, результаты наблюдений и долгосрочные последствия, а также делимся практическими рекомендациями для медицинских работников.
Цель — обобщить 22-летний опыт лечения детей с травматическими разрывами селезенки.
Материалы и методы
Проведено обсервационное одноцентровое проспективное исследование в период с марта 2002 по март 2024 г. на базе ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Иркутска. В анализ включены данные 95 детей с травматическим разрывом селезенки. Консервативное лечение получили 83 (87,4 %) пациента, хирургическое — 12 (12,6 %). Возраст пострадавших детей составил 12 [8; 14] лет, мальчиков наблюдалось в 3,3 раза больше, чем девочек (73 против 22).
Критерии соответствия. Критерии включения в исследование: тупая травма живота; разрыв селезенки; гемоперитонеум (ГП). Критерии невключения: повреждение селезенки без кровотечения в полость брюшины; сопутствующая травма органов брюшной полости, ассоциируемая с ГП.
Описание медицинского вмешательства
При поступлении ребенка в приемный покой, с жалобами на боли в животе и в анамнезе с абдоминальной травмой, проводили физикальный осмотр, оценку гемодинамики. Рассчитывали шоковый индекса Альговера (ИА) по отношению максимальной частоты сердечных сокращений за минуту (ЧСС) к минимальной величине систолического артериального давления (САД). Использовали показатель шокового индекса с поправкой на детский возраст. Пороговые значения включали ИА >1,2 (возраст до 6 лет), >1,0 (7–12 лет) и >0,9 (старше 12 лет) [6]. Повышенный шоковый индекс определялся как критерий гемодинамической нестабильности у ребенка. Состояние гемодинамики рассматривалось в качестве критерия выбора метода лечения пациентов с разрывами селезенки.
При стабильной гемодинамике и наличии ГП, по данным УЗИ брюшной полости, пациента госпитализировали в хирургическое отделение, где назначали ограничение физических нагрузок в течение 3 сут. Осуществляли контроль физиологических функций (САД, ЧСС, ИА, диурез, температура) каждые 6 ч. Оценивали лабораторные показатели (уровень гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов). Назначали гемостатическую и антибактериальную терапию в течение 3–7 дней. Выполняли эхосонографию каждые 6 ч в течение суток, затем на второй день и в последующем при выписке.
При повышенном шоковом индексе ребенка госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Проводили болюсную инфузионную терапию в объеме от 20 до 40 мл/кг массы тела. Осуществляли клинико-лабораторный мониторинг. При сохранении гипотензии на фоне введения кристаллоидов проводили переливание компонентов крови в объеме 10–15 мл/кг массы тела. Гемотрансфузию также осуществляли при уровне гемоглобина менее 70 г/л. При сохранении повышенного шокового индекса на фоне гемотрансфузии выполняли срочную лапаротомию. Для контроля объема крови в полости брюшины проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) в режиме мониторинга: каждые 2 ч в течение 6 ч от момента поступления, затем каждые 6 ч в течение дня и в последующем 1 раз в сутки [7–9].
Для подсчета объема ГП использовали «Способ определения объема свободной жидкости в брюшной полости» (патент RU № 2830196 C1 выдан 14.11.2024):
V = VУЗИ × ППТ × К;
где V — объем ГП, мл; VУЗИ — объем ГП, полученный по формуле для эллипсоида; ППТ — площадь поверхности тела, м2; К — коэффициент, равный 2,35 при ГП до 11 мл/кг массы тела, 1,35 при ГП от 11 до 22 мл/кг массы тела и 1,0 при ГП более 22 мл/кг массы тела.
Осложнения, связанные с повреждением селезенки, изучены в катамнезе у всех детей. Комплексное обследование пациентов после выписки продолжалось на протяжении от 6 мес. до 15 лет.
Анализ в подгруппах. Для анализа пациенты были разделены на две группы: группа сравнения (n = 62; 65,3 %) — ранний период лечения (март 2002 – август 2012 г.); основная группа (n = 33; 34,7 %) — поздний период лечения (сентябрь 2012 – март 2024 года).
Статистический анализ. Выборки данных проверяли на соответствие нормального закона распределения при уровне значимости р < 0,05 (частотная гистограмма, критерий Лиллиефорса, тест Шапиро–Уилка). Оценку значимости различий групп сравнения проводили непараметрическим методом, результаты представлены медианой (Me), 25-м и 75-м квартилями [Q1; Q2]. Группы сравнивали с использованием критерия Манна–Уитни. Сравнение категориальных критериев проводили методом хи-квадрат (χ2). Для прогнозирования исходов при оценке совокупности различий множественных факторов между группами использовали дискриминантный анализ. Прогностическую модель риска представляли графиком с построением кривой рабочих характеристик приемника (ROC-кривая) — графического представления зависимости двух величин: чувствительности (Se) и специфичности (Sp). Рассчитывали соответствующую площадь под кривой (AUC). Проверку пригодности модели проводили с помощью критерия Хосмера–Лемешоу, где при значениях p > 0,05 подтверждалась нулевая гипотеза. Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ Statistica v.10.1, MedCalc statistical software. За доверительную значимость принята величина p < 0,05.
Результаты
Время от момента травмы до госпитализации составило 2,9 [1, 6; 7, 1] ч, в 73,7 % случаев дети поступили в стационар в первые 6 ч. Из 95 пациентов потребовалась госпитализация в отделение реанимации 62 (65,3 %) детям. Количество койко-дней в палате интенсивной терапии составило 3,5 [2; 5] дня, в отделении — 8,7 [6; 13] дней. Весенне-летний период стал наиболее распространенным временем года, где частота госпитализаций составила 67,4 % от общей когорты пациентов.
Частота хирургического лечения составила 12,6 % (n = 12). Первоначально хирургическое лечение получили 4 (4,2 %) пациента в первые 2 ч с момента поступления, в связи с нестабильной гемодинамикой у 3 выполнена лапаротомия, в одном случае проведена лапароскопическая ревизия, из-за риска повреждения полого органа. В связи с продолжающимся кровотечением 6 (6,3 %) пациентам выполнено оперативное лечение: у 5 пациентов в период от 6 до 12 ч и у 1 ребенка через сутки от момента госпитализации. Показанием к хирургическому лечению у 4 пациентов было продолжающееся внутрибрюшинное кровотечение с тенденцией к гипотензии. В 2 случаях через 12 ч от момента поступления выполнена лапароскопическая санация брюшной полости, из-за сохраняющихся болей в животе и неясной картины при ультразвуковой и лучевой диагностике. Двум пациентам (2,1 %) проведена лапаротомия на 5-е и 6-е сутки после получения травмы в связи с отсроченным кровотечением.
Из 95 пациентов у 2 (2,1 %) выполнена спленорафия, у 3 (3,1 %) — лапароскопия с ревизией селезенки, у 7 (7,4 %) — спленэктомия. Всем пациентам со спленэктомией проводили аутотрансплантацию ткани селезенки. При оперативном лечении детям требовалась длительная комбинированная антибактериальная терапия в течение 13 [10; 16] дней, что статистически значимо дольше, чем в группе консервативного лечения, где профилактическая антибактериальная терапия осуществлялась в течение 5 [3; 7] дней (p = 0,001). При удалении селезенки после выписки из стационара пациентам назначалась вакцинопрофилактика.
Для выявления совокупных переменных, влияющих на выбор оперативного лечения, проведен дискриминантный анализ (табл. 1).
Таблица 1. Дискриминантный анализ факторов, влияющих на выбор хирургического лечения при разрыве селезенки у детей (n = 71)
Table 1. Discriminant analysis of factors influencing the choice of surgical treatment for splenic rupture in children (n = 71)
Фактор | Переменные | |||||
Me [25; 75] | Wilks’ Lambda | Partial Lambda | F-remove (1,58) | p-value | 1-Toler. (R-Sqr.) | |
Возраст, лет | 13 [7; 14] | 0,417 | 0,997 | 0,186 | 0,667 | 0,232 |
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. | 95 [70; 118] | 0,489 | 0,848 | 10,35 | 0,002 | 0,936 |
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. | 55 [40; 60] | 0,417 | 0,995 | 0,287 | 0,594 | 0,871 |
Частота сердечных сокращений, в минуту | 105 [100; 120] | 0,457 | 0,910 | 5,762 | 0,019 | 0,961 |
Шкала комы Глазго | 15 [13; 15] | 0,416 | 0,999 | 0,042 | 0,839 | 0,291 |
Вегетативный индекс Кердо, у. е. | 48 [39; 60] | 0,415 | 0,999 | 0,001 | 0,979 | 0,918 |
Индекса Альговера | 0,529 | 0,784 | 15,95 | 0,001 | 0,971 | |
Кровопотери при поступлении, % | 0,516 | 0,805 | 14,06 | 0,001 | 0,828 | |
Максимальная степень кровопотери | 2 [1; 3] | 0,600 | 0,692 | 25,81 | 0,001 | 0,827 |
Время от момента травмы до поступления, ч | 2 [1; 6] | 0,424 | 0,9792 | 1,229 | 0,272 | 0,158 |
Примечание. Итог анализа дискриминантной функции. Количество переменных в модели: 10; группировка: операция. Wilks’ Lambda: 0,415 approx. F(10,58) = 8,16, p < 0,0000
Note. Result of discriminant function analysis. Number of variables in the model: 10; grouping: by surgery. Wilks’ Lambda: 0.415, approx. F(10,58) = 8.16, p < 0.0000
Установлены статистически значимые совокупные факторы, влияющие на выбор оперативного лечения травматических разрывов селезенки: низкое САД — 95 [70; 118] мм рт. ст., p = 0,002; тахикардия — ЧСС 105 [100; 120] в минуту, p = 0,019; повышенный ИА — 1,1 (0,9; 1,57), p = 0,001; кровопотеря при поступлении — 13 % [6, 3; 19] ОЦК, p = 0,001; максимальная степень кровопотери — 2 [1; 3], p = 0,001.
Оценка общей прочности модели для выявленных факторов, ассоциируемых с хирургическим лечением, представлена ROC-кривой на рис. 1.
Рис. 1. Кривая рабочих характеристик по совокупности факторов систолического артериального давления (1), частоты сердечных сокращений (2), индекса Альговера (3), % кровопотери от объема циркулирующей крови (4) и максимальной степени кровопотери (5)
Fig. 1. Receiver operating characteristics (ROC) curve based on combined factors: systolic blood pressure (1), heart rate (2), shock index (3), % percentage of blood loss from circulating blood volume (4), and maximum degree of blood loss (5)
Оценка пригодности модели показала положительную проверку (χ2 = 12,3; p = 0,14). Чувствительность теста 95,2 % [95 % доверительный интервал (ДИ) 86,7–99,0], специфичность — 100 % (95 % ДИ 59–100). Общий уровень достоверности 95,7 % (95 % ДИ 88–99,1; табл. 2).
Таблица 2. Прогностическая ценность ROC-кривой выявленных факторов при дискриминантном анализе
Table 2. Predictive accuracy of ROC curve for identified factors in discriminant analysis
Параметры | AUC | 95 % доверительный интервал |
Систолического артериальное давление | 0,68 ± 0,13 | 0,56–0,79 |
Частота сердечных сокращений | 0,70 ± 0,08 | 0,58–0,81 |
Индекс Альговера | 0,77 ± 0,08 | 0,66–0,87 |
Кровопотеря при поступлении, % | 0,69 ± 0,07 | 0,57–0,79 |
Mаксимальная степень кровопотери | 0,74 ± 0,09 | 0,62–0,84 |
Совокупность факторов | 0,90 ± 0,07 | 0,81–0,96 |
Для каждого выявленного фактора модель работает хорошо (AUC > 0,6). При обобщении выявленных параметров площадь под кривой (AUC) составила 0,90 ± 0,07 (95 % ДИ 0,81–0,96), что указывает на превосходное качество модели.
Таким образом, выявлены пять совокупных факторов кровопотери и гемодинамики, которые являются определяющими для показаний к хирургическому лечению.
На раннем этапе лечения детей с разрывами селезенки множественные факторы, такие как сочетанная травма, продолжающееся кровотечение, угнетение сознания, являлись показаниями для хирургического лечения. Активное использование совокупных факторов кровопотери и гемодинамики мы стали применять с сентября 2012 г., в связи с чем пациенты разделены на две группы. Следует отметить, что за последнее десятилетие частота травмы селезенки снизилась в 1,9 раза (62 против 33).
В табл. 3 представлены клинико-эпидемиологические характеристики пострадавших в группах сравнения и основной.
Таблица 3. Характеристики пациентов с разрывом селезенки в группах раннего и позднего периодов лечения
Table 3. Characteristics of patients with splenic rupture in early and late treatment groups
Показатель | Группа сравнения (n = 62), Me [Q1; Q2] | Основная группа (n = 33), Me [Q1; Q2] | p |
Возраст, лет | 11 [8; 14] | 12 [7; 14] | 0,75 |
Время от момента травмы до госпитализации, ч | 2,3 [1; 8] | 3,5 [2; 7] | 0,2 |
Число койко-дней в отделении реанимации | 3 [2; 4] | 2,8 [2; 5] | 0,4 |
Число койко-дней в отделении | 12 [8; 14] | 7 [7; 9] | 0,001 |
Шкала тяжести повреждений (Injury Severity Score, ISS), балл | 9 [9; 13] | 9 [9; 13] | 0,9 |
Шкала комы Глазго, балл | 15 [15; 15] | 15 [15; 15] | 0,7 |
Объем гемоперитонеума при поступлении по данным УЗИ, мл | 200 [100; 400] | 175 [90; 350] | 0,45 |
Соотношение объема гемоперитонеума на вес при поступлении, мл/кг | 4,9 | 4,5 | 0,54 |
Кровопотеря при поступлении, % ОЦК | 0,54 | ||
Mаксимальная кровопотеря, % ОЦК | 0,72 | ||
Mаксимальная степень кровопотери | 1 [1; 2] | 1 [1; 2] | 0,81 |
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. | 110 [100; 118] | 115 [106; 120] | 0,11 |
Диастолического артериальное давление, мм рт. ст. | 65 [60; 77] | 70 [63; 75] | 0,13 |
Частота сердечных сокращений, в минуту | 100 [90; 110] | 98 [90; 110] | 0,51 |
Индекс Альговера | 0,27 |
В сравниваемых группах не выявлено отличий по возрасту, времени от момента травмы до госпитализации, числу койко-дней в отделении реанимации. Выявлено статистически значимое различие по количеству койко-дней в отделении хирургии: в группе сравнения срок госпитализации составил 12 [8; 14] дней, в основной группе — 7 [7; 9] дней (p = 0,001). Пациенты в сравниваемых группах не отличались по данным шкалы тяжести травмы, шкалы комы Глазго, кровопотери и гемодинамики. Основные категориальные показатели, определяющие выбор метода лечения в анализируемых группах представлены в табл. 4.
Таблица 4. Основные категориальные параметры в группах разных периодов наблюдения
Table 4. Key categorical parameters in groups of different observation periods
Показатели | Группа сравнения (n = 62) | Основная группа (n = 33) | p | ||
n | % | n | % | ||
Сочетанная травма: Да Нет | 23 39 | 37,1 62,9 | 10 23 | 30,3 69,7 | 0,51 |
Продолжающееся кровотечение: Да Нет | 14 48 | 22,6 77,4 | 10 23 | 30,3 69,7 | 0,41 |
Повышенный шоковый Индекс Альговера при поступлении: Да Нет | 16 46 | 25,8 74,2 | 7 26 | 21,2 78,8 | 0,62 |
Гемотрансфузия: Да Нет | 7 55 | 11,3 88,7 | 5 28 | 15,2 84,8 | 0,59 |
За 22-летний период пациенты в сравниваемых группах статистически не отличались по частоте сочетанной травмы, продолжающегося кровотечения, параметрам гемодинамики и гемотрансфузий. Однако следует отметить, что за последние 11 лет частота операций при разрыве селезенки снизилась в 2,6 раза, с 16,1 до 6,1 %. Консервативное лечение разрывов селезенки у детей в основной группе составило 93,9 % случаев.
При анализе непосредственных исходов после спленэктомии отмечено, что у 71,4 % (n = 5) детей выявлен тромбоцитоз на 3–6-е сутки после операции, количество тромбоцитов составило 430 [369, 8; 431] ×109/л. В группе консервативного лечения в период 3–6-е сутки максимальное количество тромбоцитов соответствовало 256 [210; 279] ×109/л (p = 0,002). В течение 2 нед. после удаления селезенки у всех детей отмечалось повышенное СОЭ 25 [23; 39] мм/ч. У пациентов с консервативным лечением СОЭ к 5–7-м суткам составляло 6 [4; 8] мм/ч (p = 0,001).
Для оценки отдаленных исходов лечения детей с разрывами селезенки проведено обследование после выписки в первые 6 мес. у 100 % (n = 95), в период с 6 мес. до 3 лет обследование прошли 38,9 % (n = 37), после 3 лет — 10,5 % (n = 10) пациентов. После проведенной спленэктомии в позднем периоде у 3 (42,8 %) пациентов отмечались частые инфекционные заболевания до 5–7 раз в год, у одного ребенка (14,3 %) инфекции отмечались до 3–4 раз в год. При консервативном лечении разрывов селезенки симптомов гипоспленизма не выявлено.
Обсуждение
Консервативное лечение разрывов селезенки у детей становится золотым стандартом в медицине. Сохранение селезенки при ее травме является мерой первичной профилактики гипоспленизма и его осложнений, связанных с постспленэктомической инфекцией [10]. В последнее десятилетие опубликованы международные рекомендации по неоперативному ведению детей с разрывами селезенки [11–13]. При соблюдении этих рекомендаций частота консервативного лечения по данным зарубежной литературы составила 42,5–97,2 %, при этом частота хирургического лечения варьировала от 2,8 до 31,8 %, а спленэктомия выполнена у 0–7,5 % детей. Особого внимания заслуживает широкое распространение ангиоэмболизации при травме селезенки у детей, которая по данным анализируемых источников составила от 1,2 до 42,5 % [14–17].
При анализе литературы обращают на себя внимание публикации, посвященные опыту лечения детей с повреждениями селезенки. Так, по данным R. Filipescu и соавт. [18], частота спленэктомий при лечении в педиатрическом стационаре составила 1,5 %, а во взрослом — 14,4 % (p = 0,01). Авторы указывают, что дети, госпитализированные в педиатрические больницы, имели более высокую степень повреждения селезенки. При этом во взрослых стационарах детям чаще проводили гемотрансфузию. В исследованиях S. Miyata и соавт. [19] доказано, что в клиниках, имеющих большой опыт лечения детей с разрывом селезенки, отмечается низкая частота спленэктомий (отношение шансов 0,5; 95 % ДИ 0,3–0,8). По данным А.Л. Горелика и соавт. [20], при первичной госпитализации в специализированный стационар эффективность консервативного лечения травматических разрывов селезенки у детей составила 94,1 %. В неспециализированных клиниках хирургическое лечение было проведено в 58,8 % (n = 53), при этом частота спленэктомий составила 47,8 % (n = 43). Данные исследования согласуются с нашей работой, так, при многолетнем опыте ведения пациентов частота операций снизилось с 16,1 до 6,1 %.
В отечественных публикациях сохраняется высокая частота лапароскопии при травме селезенки с гемоперитонеумом [21, 22]. Необходимость лапароскопического метода лечения в нашем исследовании возникла у 3 (3,1 %) детей. По данным литературы следует выделить следующее практически значимые факты, которые побудили нас к отказу от рутинного использования лапароскопического метода лечения детей с травмой селезенки: спонтанный гемостаз при разрывах селезенки у детей встречается с частотой 78–85 %; лапароскопия при изолированных травмах селезенки в 61–72 % имеет только диагностический характер [23–26]. Мы приняли решение использовать минимально инвазивные методы лечения в случае, если у пациентов сохраняются жалобы на боли в животе и имеются сомнительные результаты УЗИ и мультиспиральной компьютерной томографии. При описанных параметрах лапароскопия используется при абдоминальных травмах очень редко. По данным исследований ATOMAC (консорциум педиатрических травматологических центров Американского колледжа хирургов), из 410 детей с травмой селезенки у 5 (1,3 %) выполнена лапароскопия через 42 [21; 90] ч от момента поступления. Как правило, лапароскопия требуется при сопутствующих повреждениях органов брюшной полости [26].
При анализе непосредственных исходов лечения разрывов селезенки было установлено, что спленэктомия сопровождается тромбоцитозом и повышенным СОЭ. При обзоре литературы выявлено, что среди всех причин тромбоцитоза у детей спленэктомия составляет 4,5 % [27]. Тромбоцитоз может привести к тромбозу из-за патологического свертывания крови в сосудах. Особенно опасны в ранний период после спленэктомии тромбозы системы воротной вены, которые могут проявиться в срок до 1 мес. после операции [28]. У подростков в возрасте 12–17 лет в поздний период после удаления селезенки встречаются тромбозы глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии с частотой до 3,5 % [29]. Приводятся сообщения, что у детей в первую неделю после спленэктомии наблюдаются стойкие подъемы температуры, отмечается длительное повышение показателей СРБ (до 55 мг/л), лейкоцитоза (до 22×109/л), повышенные показатели СОЭ (до 20 мм/ч) [30].
В нашем исследовании отдаленных результатов после удаления селезенки у 57,1 % пациентов отмечались частые инфекционные заболевания. Полученные данные согласуются с другими научными публикациями. Доказано, что после спленэктомии у пациентов отмечается выраженное нарушение взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, что приводит к противовирусной резистентности. Дети более чем в 90 % предрасположены к частым вирусным сезонным заболеваниям, герпесу, воспалительным изменениям кожи, обострению хронических заболеваний [30, 31].
Установлено, что при неоперативном ведении детей с разрывами селезенки симптомы гипоспленизма не проявляются.
Заключение
Двадцатидвухлетний опыт лечения детей с травматическими разрывами селезенки показал клиническую эффективность и безопасность консервативного ведения, которое возможно в 93,9 % случаев. Итоги нашего многолетнего опыта подтверждают результативность применяемых органосберегающих методик. Эти наблюдения подчеркивают важность индивидуального подхода к каждому ребенку, который учитывает не только клиническую картину, но и потенциал организма к регенерации. Консервативные методы, которые мы использовали, не только минимизировали необходимость хирургического вмешательства, но и способствовали лучшему восстановлению функций селезенки, что является мерой первичной профилактики гипоспленизма.
Таким образом, выводы нашей работы служат основанием для дальнейших исследований в этой области и подчеркивают необходимость развития стратегии сохранения селезенки, что, безусловно, позитивно сказывается на долгосрочном здоровье детей, переживших травматические повреждения этого органа.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. Личный вклад каждого автора: В.В. Подкаменев — концепция и дизайн исследования, написание текста, редактирование; И.А. Пикало — концепция и дизайн исследования, курация пациентов, сбор и обработка материала, статистический анализ, написание текста, редактирование; В.А. Новожилов, Н.И. Михайлов, Е.М. Петров, В.Х. Латыпов, С.В. Мороз, Д.Ю. Халтанова — курация пациентов, сбор и обработка материала; О.А. Карабинская — обработка материала, статистический анализ.
Источник финансирования. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Этическая экспертиза. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 3 от 15.11.2019).
Об авторах
Владимир В. Подкаменев
Иркутский государственный медицинский университет
Email: vpodkamenev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0885-0563
SPIN-код: 7722-5010
д-р мед. наук, профессор
Россия, ИркутскИлья А. Пикало
Иркутский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: pikalodoc@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2494-2735
SPIN-код: 4885-4209
канд. мед. наук
Россия, ИркутскВладимир А. Новожилов
Иркутский государственный медицинский университет; Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: novozilov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9309-6691
SPIN-код: 5633-5491
д-р мед. наук, профессор
Россия, Иркутск; ИркутскОльга А. Карабинская
Иркутский государственный медицинский университет
Email: fastmail164@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0080-1292
SPIN-код: 1511-3402
канд. мед. наук
Россия, ИркутскНиколай И. Михайлов
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: mni.irk@ya.ru
ORCID iD: 0000-0002-7428-3520
SPIN-код: 1153-3175
канд. мед. наук
Россия, ИркутскЕвгений М. Петров
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: emp1976@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0002-1083-0951
SPIN-код: 9949-7707
Россия, Иркутск
Вячеслав Х. Латыпов
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: slavalat@gmail.com
ORCID iD: 0009-0005-9147-3309
Россия, Иркутск
Сергей В. Мороз
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: moroszsv@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-1202-1127
SPIN-код: 4915-5348
Россия, Иркутск
Дора Ю. Халтанова
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница
Email: khaltanovad@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7018-3007
SPIN-код: 8185-7522
Россия, Иркутск
Список литературы
- Lenti M.V., Luu S., Carsetti R., et al. Asplenia and spleen hypofunction // Nat Rev Dis Primers. 2022. Vol. 8, N 1. ID 71. doi: 10.1038/s41572-022-00399-x
- Starnoni M., Pappalardo M., Marra C., et al. The overwhelming postsplenectomy sepsis: Role of plastic surgeon // Plast Reconstr Surg Glob Open. 2023. Vol. 11, N 7. ID e5109. doi: 10.1097/GOX.0000000000005109
- Розинов В.М., Савельев С.Б., Рябинская Г.В., Беляева О.А. Органосохраняющее лечение повреждений селезенки в детском возрасте // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1994. Т. 39, № 2. С. 20–21.
- Rozinov V.M., Savel’ev S.B., Keshishyan R.A., et al. Organ-sparing treatment for closed spleen injuries in children // Clin Orthop Relat Res. 1995. Vol. 320. P. 34–39. doi: 10.1097/00003086-199511000-00007
- Подкаменев В.В., Пикало И.А. Риск спленэктомии при лапароскопическом лечении травмы селезенки у детей // Детская хирургия. 2015. Т. 19, № 1. С. 24–27. EDN: RMACTV
- Huang K.-C., Yang Y., Li C.-J., et al. Shock index, pediatric age-adjusted predicts morbidity and mortality in children admitted to the intensive care unit // Front Pediatr. 2021. Vol. 9. ID 727466. doi: 10.3389/fped.2021.727466
- Розинов В.М., Савельев С.Б., Беляева О.А., Циммерман Т.Р. Эхография в диагностике повреждений внутренних органов у детей c закрытой травмой живота // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1989. Т. 143, № 7. С. 80–81.
- Беляева О.А., Розинов В.М., Савельев С.Б., Кешишьян Р.А. Эхографические критерии обоснования лечебной тактики у детей с закрытой травмой живота // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 1992. № 1. С. 65–69.
- Беляева О.А., Розинов В.М., Савельев С.Б., Кешишьян Р.А. Эхографическая диагностика закрытых повреждений селезенки в детском возрасте // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 1993. № 3. С. 93.
- Siu M., Levin D., Christiansen R., et al. Prophylactic splenectomy and hyposplenism in spaceflight // Aerosp Med Hum Perform. 2022. Vol. 93, N 12. P. 877–881. doi: 10.3357/AMHP.6079.2022
- Notrica D.M., Eubanks J.W. III, Tuggle D.W., et al. Nonoperative management of blunt liver and spleen injury in children: Evaluation of the ATOMAC guideline using GRADE // J Trauma Acute Care Surg. 2015. Vol. 79, N 4. P. 683–693. doi: 10.1097/TA.0000000000000808
- Podda M., de Simone B., Ceresoli M., et al. Follow-up strategies for patients with splenic trauma managed non-operatively: the 2022 World Society of Emergency Surgery consensus document // World J Emerg Surg. 2022. Vol. 17, N 1. ID 52. doi: 10.1186/s13017-022-00457-5
- Williams R.F., Grewal H., Jamshidi R., et al. Updated APSA Guidelines for the management of blunt liver and spleen injuries // J Pediatr Surg. 2023. Vol. 58, N 8. P. 1411–1418. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2023.03.012
- Conradie B., Kong V., Cheung C., et al. Retrospective cohort study of paediatric splenic injuries at a major adult trauma centre in South Africa identifies areas of success and improvement // ANZ J Surg. 2021. Vol. 91, N 6. P. 1091–1097. doi: 10.1111/ans.16748
- Chaudhari P.P., Rodean J., Spurrier R.G., et al. Epidemiology and management of abdominal injuries in children // Acad Emerg Med. 2022. Vol. 29, N 8. P. 944–953. doi: 10.1111/acem.14497
- Kim H., Jeon C.H., Park C.Y. Clinical outcomes of splenic arterial embolization for blunt splenic injury in pediatric and adolescent patients // Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023. Vol. 29, N 6. P. 669–676. doi: 10.14744/tjtes.2023.29887
- Peña K., Borad A., Burjonrappa S. Pediatric blunt splenic trauma: Disparities in management and outcomes // J Surg Res. 2024. Vol. 294. P. 137–143. doi: 10.1016/j.jss.2023.09.036
- Filipescu R., Powers C., Yu H., et al. The adherence of adult trauma centers to American Pediatric Surgical Association guidelines on management of blunt splenic injuries // J Pediatr Surg. 2020. Vol. 55, N 9. P. 1748–1753. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.01.001
- Miyata S., Cho J., Matsushima K., et al. Association between pediatric blunt splenic injury volume and the splenectomy rate // J Pediatr Surg. 2017. Vol. 52, N 11. P. 1816–1821. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2017.02.007
- Горелик А.Л., Карасева О.В., Тимофеева А.В., и др. Медико-эпидемиологические аспекты травмы селезенки у детей в мегаполисе // Детская хирургия. Журнал им. Ю.Ф. Исакова. 2022. Т. 26, № 3. С. 142–149. EDN: SNURKE doi: 10.55308/1560-9510-2022-26-3-142-149
- Румянцева Г.Н., Казаков А.Н., Волков С.И., и др. К вопросу о современном подходе к диагностике и лечению травм селезенки у детей // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н.В. Склифосовского. 2021. Т. 10, № 1. С. 168–173. EDN: FPSVDA doi: 10.23934/2223-9022-2021-10-1-168-173
- Щербинин А.В., Анастасов А.Г., Зубрилова Е.Г., Пшеничная Н.Э. Изолированная закрытая травма селезенки, внутрибрюшное кровотечение у детей: современный подход к диагностике и интенсивной терапии (обзор литературы) // Медико-социальные проблемы семьи. 2022. Т. 27, № 4. С. 85–97. EDN: XNPLXE
- Розинов В.М. Значение лапароскопии в органосохраняющем лечении закрытых травм селезенки у детей // Хирургия. 1990. № 11. С. 163–164.
- Цап Н.А., Комарова С.Ю., Огарков И.П., и др. Травматические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей: оптимизация диагностики и лечения // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2010. № 1. С. 104–107. EDN: SLRLYN
- Alemayehu H., Clifton M., Santore M., et al. Minimally invasive surgery for pediatric trauma — a multicenter review // J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015. Vol. 25, N 3. P. 243–247. doi: 10.1089/lap.2014.0288
- Parrado R., Notrica D.M., Garcia N.M., et al. Use of laparoscopy in pediatric blunt and spleen injury: An unexpectedly common procedure after cessation of bleeding // J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019. Vol. 29, N 10. P. 1281–1284. doi: 10.1089/lap.2019.0160
- Babacan A., Şenol F.F. Thrombocytosis in children // Rev Assoc Med Bras. 2023. Vol. 69, N 6. ID e20230020. doi: 10.1590/1806-9282.20230020
- Squire J.D., Sher M. Asplenia and hyposplenism: An underrecognized immune deficiency // Immunol Allergy Clin North Am. 2020. Vol. 40, N 3. P. 471–483. doi: 10.1016/j.iac.2020.03.006
- Grigorian A., Schubl S., Swentek L., et al. Similar rate of venous thromboembolism (VTE) and failure of non-operative management for early versus delayed VTE chemoprophylaxis in adolescent blunt solid organ injuries: a propensity-matched analysis // Eur J Trauma Emerg Surg. 2024. Vol. 50. P. 1391–1398. doi: 10.1007/s00068-023-02440-4
- Бабич И.И., Пшеничный А.А., Аванесов М.С., Мельников Ю.Н. Особенности лечения черепно-мозговой травмы при сочетанном повреждении паренхиматозных органов у детей // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: естественные и технические науки. 2021. № 5-2. С. 103–107. EDN: MXNNWR doi: 10.37882/2223-2966.2021.05-2.04
- Халилов Ш.К., Мамажанов У.Ш. Лечение комбинированных повреждений печени и селезенки у детей // Экономика и социум. 2021. № 11-2. С. 579–583. EDN: MWQQGE
Дополнительные файлы